ISSN: 2074-8132

ISSN: 2074-8132
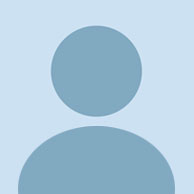
–Ч–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—П—В–µ–ї—М –љ–∞—Г–Ї–Є –†–§, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –љ–∞—Г—З–љ—Л–є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї, –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–∞—П –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–µ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞
https://med-gen.ru/o-tcentre/struktura/balanovskaia-elena-vladimirovna/
–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Ґ—А–µ–≥–∞–ї–Њ–Ј–∞, –Є–ї–Є ¬Ђ–≥—А–Є–±–љ–Њ–є —Б–∞—Е–∞—А¬ї, –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –µ—С –≤—Б—С —И–Є—А–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –≤ –њ–Є—Й–µ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –£—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–µ —В—А–µ–≥–∞–ї–Њ–Ј—Л –≤ –Ї–Є—И–µ—З–љ–Є–Ї–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ—С —А–∞—Б—Й–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П —Д–µ—А–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ —В—А–µ–≥–∞–ї–∞–Ј–Њ–є. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ GвЖТA –≤ –ї–Њ–Ї—Г—Б–µ rs2276064 –≥–µ–љ–∞ TREH –≤–µ–і—С—В –Ї —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—О –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Д–µ—А–Љ–µ–љ—В–∞. –¶–µ–ї—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАУ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —З–∞—Б—В–Њ—В –∞–ї–ї–µ–ї–µ–є –Є –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Њ–≤ TREH (rs2276064) –≤ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П—Е –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є, –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞, –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є, —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ –≤–Ї–ї–∞–і—Г –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ–є (–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ–Њ–є) –Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ–є (–µ–≤—А–Њ–њ–µ–Њ–Є–і–љ–Њ–є) –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В.
–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ 987 –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Ф–Э–Ъ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є 17 –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –°–Є–±–Є—А–Є, –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞ –Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є. –†–µ—Д–µ—А–µ–љ—В–љ—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є 311 –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Њ—В –∞–ї–ї–µ–ї–µ–є –Є –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Њ–≤ TREH, –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤–Ї–ї–∞–і –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ–є (¬Ђ–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ–Њ–є¬ї) –Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ–є (¬Ђ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–Њ–Є–і–љ–Њ–є¬ї) –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В ADMIXTURE –≤ –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і—Л —В–µ—Е –ґ–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є, –Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –њ–∞–љ–µ–ї–Є SNP-–Љ–∞—А–Ї–µ—А–Њ–≤ (Illumina 750k, Illumina4M).
–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л. –І–∞—Б—В–Њ—В—Л –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б —В—А–µ–≥–∞–ї–∞–Ј–љ–Њ–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –∞–ї–ї–µ–ї—П A*TREH –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—О—В —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї (rsp=0,500, p<0,05). –Ъ–Њ—А—А–µ–ї—П—Ж–Є—П TREH —Б–Њ –≤–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Њ–є (–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ–Њ–є) –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Л –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ —Б –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є: rsp=0,613 (p=0,007), –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–∞ AA*TREH rsp=0,688 (p=0,002).
–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –∞–ї–ї–µ–ї—М rs2276064-–Р TREH —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —И–Є—А–µ, —З–µ–Љ —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Я–Њ –Љ–µ—А–µ —А–Њ—Б—В–∞ –≤–Ї–ї–∞–і–∞ –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є (–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ–Њ–є) –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Л –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–∞, –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–ї–ї–µ–ї—П A*TREH —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—А–∞—Б—В–∞–µ—В, –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—П 29-30% —Г –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–Њ–≤, —Е–∞–Ї–∞—Б–Њ–≤, —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤ –Є 39% —Г –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–≤ —Е–∞–ї—Е–∞. –°—Г–Љ–Љ–∞—А–љ–∞—П –і–Њ–ї—П –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Њ–≤ AG* –Є AA*TREH –≤ –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ–Њ–≥–Њ) –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–∞—А—М–Є—А—Г–µ—В –Њ—В 35 –і–Њ 65%. –Т—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞: –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —З–∞—Б—В–Њ—В–∞ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–љ—В —В—А–µ–≥–∞–ї–∞–Ј–љ–Њ–є —Н–љ–Ј–Є–Љ–Њ–њ–∞—В–Є–Є –≤ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П—Е –°–Є–±–Є—А–Є, –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞, –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Є—Е –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –ї–Є—И—М –Њ–њ–Њ—Б—А–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є.
–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Р–≤—В–Њ—А—Л —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–љ—В —Г—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П —Б–∞—Е–∞—А–Њ–≤, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–∞–Є–µ –∞–і–∞–њ—В–∞—Ж–Є–Є –Ї —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ —Б—А–µ–і—Л. –¶–µ–ї—М —А–∞–±–Њ—В—Л вАУ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –њ–Њ–ї–Є–Љ–Њ—А—Д–Є–Ј–Љ –≥–µ–љ–Њ–≤, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є—Е –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М —Д–µ—А–Љ–µ–љ—В–Њ–≤-–і–Є—Б–∞—Е–∞—А–Є–і–∞–Ј: –ї–∞–Ї—В–∞–Ј—Л LCT (rs4988235), —В—А–µ–≥–∞–ї–∞–Ј—Л TREH (rs2276064) –Є —Б–∞—Е–∞—А–∞–Ј—Л-–Є–Ј–Њ–Љ–∞–ї—М—В–∞–Ј—Л SI (rs781470490) –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Н—В–љ–Њ–∞—А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е —Н–≤–µ–љ–Ї–Њ–≤
–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –±–Є–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ 1365 –љ–µ—А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е 15 —Н—В–љ–Њ—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –°–Є–±–Є—А–Є, –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –†–§. ¬Ђ–§–Њ–Ї—Г—Б–љ—Л–µ¬ї –≥—А—Г–њ–њ—Л: ¬Ђ–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ¬ї (N=65), ¬Ђ–Ј–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Є–µ¬ї (N=50) –Є ¬Ђ–њ—А–Є–Њ—Е–Њ—В—Б–Ї–Є–µ¬ї (N=81) —Н–≤–µ–љ–Ї–Є (–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—П—А—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞–є, –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–µ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ, –°—А–µ–і–љ–Є–є –Р–ї–і–∞–љ-–Я—А–Є–Њ—Е–Њ—В—М–µ). –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤—Л–±–Њ—А–Ї–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї—Г —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–љ—В —Г—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П –і–Є—Б–∞—Е–∞—А–Є–і–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П—Е, —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ —А–∞—Б–Њ–≤–Њ–Љ, –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ-—Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ, —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-—В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є.
–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤—Л–±–Њ—А–Ї–Є —Н–≤–µ–љ–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –њ–Њ —З–∞—Б—В–Њ—В–∞–Љ –∞–ї–ї–µ–ї–µ–є –Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Њ–≤ LCT (p>0,2) –Є TREH (p>0,8). –≠–≤–µ–љ–Ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –±–ї–Є–Ј–Ї–Є –њ–Њ —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ –Ї —П–Ї—Г—В–∞–Љ, –±—Г—А—П—В–∞–Љ, –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–∞–Љ –Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П–Љ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Є –І—Г–Ї–Њ—В–Ї–Є. –Ф–µ–ї–µ—Ж–Є–Є SI delAG –≤ –≤—Л–±–Њ—А–Ї–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Н–≤–µ–љ–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ.
–Ю–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Я—А–Є—З–Є–љ—Л —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ —В–∞—С–ґ–љ—Л—Е –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤-—Н–≤–µ–љ–Ї–Њ–≤ —Б–Њ —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –±—Г—А—П—В–∞–Љ–Є, –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–∞–Љ–Є, —П–Ї—Г—В–∞–Љ–Є –≤ —З–∞—Б—В–Њ—В–∞—Е C*LCT —В—А–µ–±—Г—О—В –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Ю–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ—Л: –Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В–±–Њ—А–∞ –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Ї—Г—Е–љ–Є —Б –Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–є —Б–≤–µ–ґ–µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–∞ –Ї–Є—Б–ї–Њ–Љ–Њ–ї–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ–Є; –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Є—И–µ—З–љ–Њ–є –Љ–Є–Ї—А–Њ—Д–ї–Њ—А—Л; –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –Є–љ—Л—Е, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ–ї–Є–Љ–Њ—А—Д–Є–Ј–Љ–∞ LCT*C/T-13910, –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–љ—В —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞ –ї–∞–Ї—В–∞–Ј—Л. –Ю—Б—В–∞—О—В—Б—П –љ–µ—П—Б–љ—Л–Љ–Є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ–Ї–Є –Ї–ї–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є —З–∞—Б—В–Њ—В –∞–ї–ї–µ–ї–µ–є –≥–µ–љ–∞ TREH, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ–Њ–є –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Л –≤ –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–∞–Ј–Є–Є. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –†–§, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–ї–µ—Ж–Є–Є SI delAG вАУ –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–љ—В–∞ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞—Е–∞—А–∞–Ј—Л-–Є–Ј–Њ–Љ–∞–ї—М—В–∞–Ј—Л.
–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–Љ–Є –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П, —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л–±–Њ—А–Ї–Є —Н–≤–µ–љ–Ї–Њ–≤ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є –њ–Њ —З–∞—Б—В–Њ—В–∞–Љ –∞–ї–ї–µ–ї–µ–є –Є —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Њ–≤ LCT –Є TREH (p>0,2 –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е). ¬© 2024. This work is licensed under a CC BY 4.0 license.
–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –†—П–і–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ —Б–≤—П–Ј—М —А–∞–±–Њ—В—Л –≥–µ–љ–Њ–≤, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —А–∞–Ј–Њ–±—Й–∞—О—Й–Є—Е –±–µ–ї–Ї–Њ–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ (UCP), —Б –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є- –Є –Љ–µ–ґ–њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–Њ—В –Є –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Њ–≤ UCP1 –Є UCP3 –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –¶–µ–ї—М —А–∞–±–Њ—В—Л вАУ –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –≤–љ—Г—В—А–Є- –Є –Љ–µ–ґ—Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –≤–∞—А–Є–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–љ—В –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–Њ–±—Й–∞—О—Й–Є—Е –±–µ–ї–Ї–Њ–≤ UCP1 –Є UCP3 –Є –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М —Б–≤—П–Ј—М —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≥–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–Њ—В —Б –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞–Љ–Є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є.
–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –±–Є–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ 1698 –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–Њ–≤, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е 22 –≥—А—Г–њ–њ—Л –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –°–Є–±–Є—А–Є –Є –Ф–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –†–§. –°–Њ–±—А–∞–љ–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е (–Ј–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1940 –њ–Њ 2023 –≥–Њ–і) —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –Љ–µ—Б—В —Б–±–Њ—А–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤.
–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –†–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–љ—В –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–Њ–±—Й–∞—О—Й–Є—Е –±–µ–ї–Ї–Њ–≤ UCP1, UCP3 –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–≤—П–Ј—М —Б —Б—Г—А–Њ–≤–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є. –Я–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л —В—А–Є —А–µ–≥—А–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –≥–і–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —З–∞—Б—В–Њ—В—Л –∞–ї–ї–µ–ї–µ–є, –∞ –њ—А–µ–і–Є–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є - –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Ь–Њ–і–µ–ї–Є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л (p<0,05 –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е) –Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—В 39%, 36% –Є 64% –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є —З–∞—Б—В–Њ—В –∞–ї–ї–µ–ї–µ–є UCP1 (rs6536991, rs1800592) –Є UCP3 (rs1800849) —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –≠—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –∞–і–∞–њ—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –≥–µ–љ–Њ–≤ UCP –≤ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–∞–Ј–Є–Є.
–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—В—Б—П —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є—Е –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—О—В. –Ь—Л —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ —З–∞—Б—В–Њ—В—Л –∞–ї–ї–µ–ї–µ–є –Є –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Њ–≤ UCP1 (rs6536991, rs1800592) –Є UCP3 (rs1800849) —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ —Б–≤—П–Ј—М —Б –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–Є—А–Њ—В–Њ–є, –≤—Л—Б–Њ—В–Њ–є –љ–∞–і —Г—А–Њ–≤–љ–µ–Љ –Љ–Њ—А—П –Є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є: –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—Б–∞–і–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞, –Є–љ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ ¬Ђ—Б—Г—А–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞¬ї –С–Њ–і–Љ–∞–љ–∞. –Ф–ї—П –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤, –≤–ї–Є—П—О—Й–Є—Е –љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–∞—А–Є–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≥–µ–љ–Њ–≤ UCP, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ. ¬© 2024. This work is licensed under a CC BY 4.0 license
–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ Y-–≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і —О–ґ–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ —Б–Њ—П–љ –Є —З–Њ–Њ–і—Г –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ґ—Г–≤–∞ –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б —А–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –Ї—Л—А–≥—Л—Б (—О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Ґ—Г–≤—Л) –Є –Њ–Њ—А–ґ–∞–Ї (–Ј–∞–њ–∞–і –Ґ—Г–≤—Л) –Є –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–Њ–≤ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є. –¶–µ–ї—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П: –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞—В—Г—Б —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ —Б–Њ—П–љ, —З–Њ–Њ–і—Г –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є.
–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л. –Т –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –±–Є–Њ–Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л (—Б—Г–Љ–Љ–∞—А–љ–Њ N=150) –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –Њ–Њ—А–ґ–∞–Ї (N=42), —Б–Њ—П–љ (N=29), –Ї—Л—А–≥—Л—Б (N=46) –Є —З–Њ–Њ–і—Г (N=33). –У–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –њ–Њ 60 SNP-–Љ–∞—А–Ї–µ—А–∞–Љ Y-—Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ—Л, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–Њ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–∞–Ј–Є–Є. –Я–Њ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є —З–∞—Б—В–Њ—В –≤—Б–µ—Е Y-–≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ—Л –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г —А–Њ–і–∞–Љ–Є —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤ –Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –Ї–∞—А—В—Л –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–є, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –≤ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є.
–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л. –Т –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–∞—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Њ 27 –≤–µ—В–≤–µ–є 7 –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ (C2, J2, N1, O, Q, R1a, R1b) Y-—Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ—Л. –Ю—Б–љ–Њ–≤—Г –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–Њ–≤ —З–Њ–Њ–і—Г, –Њ–Њ—А–ґ–∞–Ї, —Б–Њ—П–љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є ¬Ђ—Б–µ–≤–µ—А–Њ-–µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–µ¬ї –≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ—Л (N1, Q). –Т –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–µ –Ї—Л—А–≥—Л—Б –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В ¬Ђ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–µ¬ї –≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ—Л –°2 –Є –Ю. ¬Ђ–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є–µ¬ї –≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ—Л (–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ R1a1a-Z93) —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–∞ –≤—Б–µ—Е —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤ –Є –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В —З–µ—В–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В—А–µ–љ–і–∞. –Т –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є —Б–Њ—П–љ, —З–Њ–Њ–і—Г –Є –Ї—Л—А–≥—Л—Б –≤–Њ—И–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —А–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤ –≤ —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ-—В–Њ—Д–∞–ї–∞—А—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–∞—Б—В–µ—А. –Т—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Ї–ї–∞—Б—В–µ—А–∞ - —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ-—В–Њ—Д–∞–ї–∞—А—Б–Ї–Є–є, –∞–ї—В–∞–є—Б–Ї–Є–є, —Е–∞–Ї–∞—Б—Б–Ї–Є–є - —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ —В—А–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–∞ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є. –Ъ–∞—А—В—Л –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–є –Њ—В —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤ –і–Њ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—В –±–Њ–ї—М—И–µ–µ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б–Њ—П–љ –Є —З–Њ–Њ–і—Г —Б –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є, —З–µ–Љ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П–Љ–Є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є. –Э–Њ –Ї–∞—А—В–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–є –Њ—В –Ї—Л—А–≥—Л—Б –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В –Є–љ–Њ–є –њ–∞—В—В–µ—А–љ: –∞—А–µ–∞–ї –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—И–Є—А–µ–љ, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—П —О–ґ–љ—Г—О –Є —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Ґ—Г–≤—Г, –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є—О, –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –С—Г—А—П—В–Є—О.
–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –Я—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ –≤ –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–∞—Е –Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤ ¬Ђ—Б–µ–≤–µ—А–Њ-–µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є—Е¬ї –≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ –Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤, —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–≤, –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і –Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–і–Є–є—Б–Ї–Њ-–Ї–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞—Б—В–µ (VI-III –≤–≤. –і–Њ –љ.—Н.), –∞ –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–∞ –≤ –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–µ –Ї—Л—А–≥—Л—Б –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ —Н—В–∞–њ–µ (–њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ XII-XVIII –≤–≤.). –Р–љ–∞–ї–Є–Ј –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–∞ —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤ —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Є–Ј–Љ—Г —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –і–∞–µ—В –≤–∞–ґ–љ—Г—О –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –і–ї—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —Н—В–љ–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞ —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ. ¬© 2024. This work is licensed under a CC BY 4.0 license
–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞ –≤ –љ–µ–і—А–∞—Е –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –Э–Њ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –±—Г—А–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –≤–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є —Н—В–Є—Е –љ–∞—Г–Ї. –Т –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –і–∞–≤–љ–Є–є —Б–Њ—О–Ј –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Є, –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М: –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–∞; –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —А–µ–њ—А–µ–Ј–µ–љ—В–∞—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–±–Њ—А–Њ–Ї –і–ї—П —Б—В–Њ–ї—М —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤; —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї—Г –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–µ —В–µ—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –Њ–±–µ –љ–∞—Г–Ї–Є. –Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Љ–µ—В–Њ–і—Г –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В ADMIXTURE, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –њ–∞–ї–µ–Њ–∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ, –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—О—Й–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–∞–ї–µ–Њ–≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Є.
–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Т —А–∞–±–Њ—В–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л –≤ —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В, –Є –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В –і–ї—П —А–∞–Ј–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤ (–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –°–µ–≤–µ—А, –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї, –°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –Х–≤—А–∞–Ј–Є—П) –Є –і–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З. –Ь–µ—В–Њ–і ADMIXTURE –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–∞—В—М –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Л –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –і–ї—П –≤–Ї–ї–∞–і–∞ —А–∞—Б–Њ–≤–Њ-–∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ–± –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–µ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л—Е –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—А–Ї–µ—А–Њ–≤.
–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –ї–Є—И—М –Љ–∞–ї–∞—П —З–∞—Б—В—М –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Є. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є —Н—В–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–є –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Њ–≤ –Є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –≤ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е, —В–Њ –Ј–∞–і–∞—З—Г –і–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–є.
–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ —Н—В–љ–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞ —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤ —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Є–Ј–Љ—Г –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–Њ–≤ –Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ—Б–≤–µ—В–Є—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Е –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–∞: –і–ї—П —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л —В–µ—Б–љ—Л–µ —Н—В–љ–Њ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є; —Г —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ –≤–Ї–ї–∞–і –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞; —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –њ–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Ј–Љ–Њ–≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–µ–і–Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤.
–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л. –°—Г–Љ–Љ–∞—А–љ–∞—П –≤—Л–±–Њ—А–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є 12 —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ (N=498) –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–Њ 60 SNP-–Љ–∞—А–Ї–µ—А–∞–Љ Y-—Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ—Л, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –і–ї—П –љ–∞—А–Њ–і–Њ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–∞–Ј–Є–Є. –Т –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–µ —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤ –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є 24 Y-–≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ—Л. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г —А–Њ–і–∞–Љ–Є –Є –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤. –°–Њ–Ј–і–∞–љ –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–љ—Л–є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –і–Њ–љ–≥–∞–Ї –Є —Б–∞—В. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–є —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј 12 —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –≤ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є.
–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л. ¬Ђ–Я–∞–ї–µ–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–∞—П¬ї –≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ–∞ Q1b-L56 —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П –Ї–ї–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М—О —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П —З–∞—Б—В–Њ—В—Л —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї; –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є –≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ—Л N1вАСF963 –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ вАУ –µ–µ —З–∞—Б—В–Њ—В–∞ —А–∞—Б—В–µ—В —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і. –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Њ—В—Л ¬Ђ—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е¬ї –≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ –°2-–Ь217, –Ю1-F492 –Є –Ю2-–Ь122 –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л —Г —О–ґ–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤, –∞ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ вАУ —Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –≤ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–Њ–≤ —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–і–Є–є—Б–Ї–Њ-–Ї–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞—Б—В–µ, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–Љ –Є—Е —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П–Љ–Є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є. –Т–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –≤ –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤ (–Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ вАУ —Г —А–Њ–і–∞ –Ї—Л—А–≥—Л—Б). –Ю–±–Њ–±—Й–µ–љ–љ—Л–µ –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –і–Њ–љ–≥–∞–Ї –Є —Б–∞—В —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—В—Б—П —Б —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ Y-—Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ—Л: ¬Ђ—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є–µ¬ї —З–µ—А—В—Л —П—А—З–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Г —Б–∞—В. –†–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–∞–Љ–Є —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤.
–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–Њ–≤ 12 —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –і–ї—П —Н—В–љ–Њ—Б–Њ–≤, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і–Њ–≤ –Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ, –∞ –љ–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є.
–Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –°–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ –Ї —Г—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—О –≤–Є—В–∞–Љ–Є–љ–∞ D –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤, –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О —В–Ї–∞–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ —А–µ—Ж–µ–њ—В–Њ—А–∞ (vitamin D receptor), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ї–Њ–і–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≥–µ–љ–Њ–Љ VDR. –Ь–µ–ґ–≥—А—Г–њ–њ–Њ–≤—Л–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –≤ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –њ–Њ–ї–Є–Љ–Њ—А—Д–Є–Ј–Љ–Њ–≤ VDR –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ –Ї–∞–Ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Њ—В–±–Њ—А–∞, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–Њ—В –і–µ–Ј–∞–і–∞–њ—В–Є–≤–љ—Л—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤. –Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –∞–ї–ї–µ–ї–Є A*TaqI (rs731236), G*BsmI (rs1544410), C*ApaI (rs7975232) –Є A*FokI (rs2228570) –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ ¬Ђ—А–Є—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ¬ї, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –Њ—Б—В–µ–Њ–њ–Њ—А–Њ–Ј–∞. –Ь—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–Є —З–∞—Б—В–Њ—В VDR –Љ–Њ–≥–ї–Њ –≤–ї–Є—П—В—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–≤—И–µ–µ—Б—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ—Г —В–Є–њ—Г (–•–Ъ–Ґ).
–¶–µ–ї—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П: —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М —З–∞—Б—В–Њ—В—Л –∞–ї–ї–µ–ї–µ–є A*TaqI, G*BsmI, C*ApaI –Є A*FokI –≥–µ–љ–∞ VDR –≤ –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—П, —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –Њ—Е–Њ—В—Л –≤ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є —Б —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤—Б—В–≤–Њ–Љ.
–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л. –Я–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Є–Љ–Њ—А—Д–Є–Ј–Љ VDR –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞—Е 3463 –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Ф–Э–Ъ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е 76 –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–є –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–Њ–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Х–≤—А–∞–Ј–Є–Є. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л –≥—А—Г–њ–њ—Л ¬Ђ–Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤¬ї (n=49), ¬Ђ—Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤¬ї (n=13) –Є ¬Ђ–Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї (n=14).
–†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л. –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ—Л–µ –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В –µ–≤—А–Њ–њ–µ–Њ–Є–і–љ—Л—Е –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ A*TaqI (p=0,008) –Є G*BsmI (p < 0,0001). –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Л –Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П–Љ–Є, –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –•–Ъ–Ґ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–∞–Љ–Є. –§–∞–Ї—В–Њ—А –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –•–Ъ–Ґ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–Љ –і–ї—П —З–∞—Б—В–Њ—В –њ–Њ–ї–Є–Љ–Њ—А—Д–Є–Ј–Љ–Њ–≤ G*BsmI –Є A*FokI (p=0,02). –Э–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ G*BsmI —Г —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –љ–Є–ґ–µ, —З–µ–Љ —Г –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ (p=0,02). –Я–Њ —З–∞—Б—В–Њ—В–∞–Љ A*FokI —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Л –Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є –љ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П, –љ–Њ –Њ–±–µ —Н—В–Є –≥—А—Г–њ–њ—Л –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ (p<0,05) –Њ—В—Б—В–∞—О—В –Њ—В –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤.
–Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Є–Љ–Њ—А—Д–Є–Ј–Љ–Њ–≤ VDR —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —А–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –≥—А—Г–њ–њ—Л. –Т –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ—Л—Е –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –•–Ъ–Ґ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М –љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Є–Љ–Њ—А—Д–Є–Ј–Љ–Њ–≤ VDR. –Ф–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є—П—Е –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–Њ–Є–і–љ–Њ–є —А–∞—Б—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ —З–∞—Б—В–Њ—В–∞—Е –њ–Њ–ї–Є–Љ–Њ—А—Д–Є–Ј–Љ–Њ–≤ VDR –≤ –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤-—А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–Њ–≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–Њ–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П.
